

Проект «Голоса еврейских местечек. Витебская область».פיתוח קשרי התרבות בין העמים של ישראל ובלרוס
|
|---|
Поиск по сайту |
|
ГлавнаяНовые публикацииКонтактыФотоальбомКарта сайтаВитебская
|
Борис ЧерняковВЕСЕЛЫЕ СТАРИКИ МОЕГО ДЕТСТВА1.Это были действительно веселые старики и звали их реб Берл Хейфец, реб Нахман Яхлиель и реб Вэле Гринштейн. С годами они как будто угомонились, но в молодости, говорят, откалывали такие номера, что в местечке об их проделках вспоминали и через сорок лет. В Пурим, густо смазав дёгтем сапоги и приняв, как и положено правоверным евреям в такой день, изрядную дозу спиртного, они устраивали для своих земляков представление на свежем воздухе: танцевали "фрейлэхс" под собственный аккомпанемент прямо посреди большой лужи. Однажды подпоили ночного сторожа, выкреста и юдофоба Сеньку, караулившего мучные склады местного богача Эльяшевича, а когда тот уснул – отнесли его на православное кладбище и аккуратно уложили меж двух могил, сунув под голову охапку соломы. В другой раз подняли на крышу пожарного сарая козу меламеда, которого с детства терпеть не могли. Числились за ними и другие подвиги... 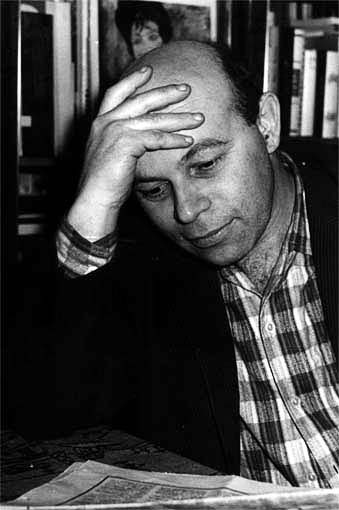 Борис Черняков.
Борис Черняков.
Старинные приятели деда, они вечерами частенько заглядывали в наш дом – выпить стакан-другой чая с топленым молоком и домашними булочками с корицей – великолепными изделиями бабушкиных рук. И, конечно же, поговорить. Как это, о чем? Вот странный вопрос! Да о чем угодно. Ну, например, что делать с горшком золотых монет, если вам вдруг посчастливится откопать его в собственном огороде? Или интересно было бы узнать, почему реб Нохем-Арон Лифшиц носит очки на самом кончике своего совиного носа, а реб Шмуэл Рисин, напротив, задирает их высоко на лысину? А то вот еще, какая проблема: должен ли настоящий рассказчик цеплять к своему повествованию некое предисловие – или цеплять ничего не надо и следует сразу же брать быка за рога? Тут, как это часто бывало, мнения разделились. Реб Нахман рубил воздух ладонью, решительно выступая за то, чтобы не морочить голову ни себе, ни людям и прямо переходить к делу. Реб Вэле философски заметил: цеплять или не цеплять – какая разница? Главное – чтобы рассказ понравился. А реб Берл утверждал: как хотите, но любое повествование должно начинаться издалека. Что ж, сегодня я поступлю именно так. И хотя речь в моем повествовании пойдет о делах давних и очень давних, начну я его с истории, приключившейся здесь, под израильским небом, года два назад... ...Как говорят военные, диспозиция такая: сижу на набережной, подставив лицо прохладному осеннему ветерку, любуюсь причудливой игрой облаков над предзакатным морем. Вдоль парапета прохаживается полный старик в белых шортах. Лицо морщинистое, взгляд хитроватый. Несколько раз он внимательно всматривается в меня, наконец, что-то, видимо, решив, садится рядом и произносит традиционное: – Шолом-алейхем! – Алейхем-шолом! – отвечаю я, как и положено в подобных случаях. – О! – восклицает он. – Значит, ты говоришь на идиш? Молча киваю в знак согласия. – Это хорошо, – говорит он удовлетворенно, – это очень даже хорошо! Вот и спроси меня на нашем родном мамэ-лошн: что я все хожу и хожу здесь взад-вперед? Просьба, согласитесь, несколько странная – но, с другой стороны, почему бы не оказать человеку любезность? И я спрашиваю: – Что же ты ходишь здесь взад-вперед? – Замечательно! – говорит он и удовлетворенно потирает руки, словно собирается показать мне какой-то фокус. – Ты спросил – я отвечаю: хожу и ищу, с кем бы почесать язык. Понял? – Конечно, понял, – говорю я. И в самом деле, что тут непонятного: у человека чешется язык. Бывает... Собеседник мой смотрит на меня в упор и серьезно вопрошает: – Теперь скажи: у тебя чешется язык? – Нет, – честно признаюсь я, – у меня язык не чешется. – Хорошенькое дело! – восклицает он. – Так что же ты мне тут целый час голову морочишь? Громко рассмеявшись своей удачно разыгранной шутке, он дружелюбно треплет меня по плечу, произносит "зай гезунд" (Будь здоров) и неторопливо шагает прочь. А я смотрю ему вслед – и вспоминаю реб Берла, реб Нахмана и реб Вэле. И, как живые, встают они у меня перед глазами – веселые старики моего детства. 2.В тот вечер они затеяли разговор о том, почему в местечке так много евреев с русскими фамилиями? Начали перечислять: Киселевы, Барановы, Ершовы, Черняковы, Беловы, Михайловские, Белкины. Так, переходя от одной фамилии к другой, добрались до наших дальних родственников – стариков Романовых. Ничего себе, еврейская фамилия, а? И тут реб Вэле вспомнил, что с этими тихими Б-гобоязненными стариками Романовыми вскоре после революции произошел прямо-таки анекдотический случай. – Пришел к ним в дом солдат, – говорит реб Вэле, – он был бородатый и весь увешанный бомбами... – Да не солдат, – перебивает его реб Нахман, – ты, как всегда, опять все перепутал. Солдат приходил в дом к нашему священнику отцу Афанасию, а к Романовым явился матрос, на боку у него висел большой мамзер (байстрюк, незаконнорожденный ребенок) – Маузер, – спокойно поправляет реб Нахмана дед. В этой компании он самый неразговорчивый и, пожалуй, самый начитанный. – Хорошо, пусть будет маузер, если вам так больше нравится, – машет рукой реб Нахман. – Главное – это был чекист. И он прицепился к старикам: пусть ответят, а не родственники ли они последнему русскому царю Николаю Романову? За столом все рассмеялись. Реб Берл говорит: – А что вы думаете? Ещё какие родственники, первый сорт! Сайхес цу зогн (шутка сказать): его императорское величество великий князь Шолом-Абэ Нохемович и его супруга, великая княгиня Сорэ-Рохл Залмановна – прошу любить и жаловать! От случая с Романовыми старики перешли к воспоминаниям о гражданской войне, которая, слава Б-гу, обошлась в местечке без стрельбы. – Так-то оно так, – замечает реб Берл, – хотя с другой стороны... И, посмеиваясь в бороду, рассказывает анекдот о том, как на митинге, услышав слова оратора: "Товарищи! Да здравствует революция, освободившая нас от цепей!" – один еврей с печальным вздохом обращается к другому еврею: "Хаим, ты помнишь мою прекрасную золотую цепь?" Все опять смеются, но бабушка укоризненно качает головой и взглядом указывает на меня. – Ничего, Сорэ-Двосе, ничего, – успокаивает ее реб Берл. – Это свой парень, он не проболтается. Гордый оказанным доверием, я энергично киваю. Но, сколько помню, с тех пор старик в моем присутствии подобных анекдотов не рассказывал. 3.Среди приятелей деда реб Берл нравился мне больше других. Во-первых, он хорошо знал историю нашего местечка и хранил в своей бездонной памяти множество подробностей из жизни его обитателей. Здесь с ним мог конкурировать разве что Меер-Слепец. Именно реб Берл сообщил мне то, о чем я через много лет прочел в "Еврейской энциклопедии": в начале прошлого века у нас жил и проповедовал первый Любавичский ребе. От него же я услышал имя Марка Шагала, проведшего в местечке детские годы. Во-вторых, в отличие от многих взрослых, реб Берл всегда воспринимал меня всерьез и никогда не отмахивался от моих вопросов а вопросы, надо признаться, я любил задавать. Правда, истины ради следует заметить, что, будучи большим любителем поговорить, старик всегда нуждался хотя бы в одном слушателе, и в этом смысле я был для него сущим кладом. Реб Берл знал великое множество "идише глайхвертлэх" (еврейские острые словечки) и неизменно пересыпал ими свою речь. "Калтэ фафл" (холодные клецки), "цутрогн, ви Борух афн ярид" (разволновался, как Борух на ярмарке), "клапн ин чайник" (колотить в чайник), "а хиц ин паровоз" (жар в паровозе), "гликлэх, ви де рабэ кац" (счастлив, как рябая кошка) – эти, как и множество других шуток, поговорок, присловий я впервые услышал именно от него. На традиционный еврейский вопрос: "Вос хэрцех?" (Что слышно) он неизменно отвечал: "Ми голцех ун ми шерцех" (Стригутся и бреются), и почти каждый свой рассказ начинал с присловья: "Бекицер а майсэ – ди цаг из а вайсэ" (Короче говоря – коза белая). Для тех наших земляков, особенно дачников, кто уже изрядно подзабыл идиш и говорил на забавной смести русского и еврейского, у него был припасен коротенький и насмешливый стишок: Штейн ди банкес мит варенье А еще он часто и всегда к месту употреблял в разговоре нечто вроде афоризмов. Дед, усмехаясь, говорил, что реб Берл сам же их и придумывает. Так это было или нет – сказать не могу, но изречения его мне очень нравились. Вот послушайте: "И кошерным вином можно допиться до свинского состояния". Или всегда смешившее меня: "Евреи! Хватит держать фигу в кармане – пора ее кому-нибудь показать!" Даже сегодня, по прошествии стольких лет я слышу его глуховатый, с хрипотцой, голос: – Интересно знать, кто это тебе сказал, что наш кузнец, уважаемый реб Танхум, пьяница? Кто-кто? Ах, Бенче-Кукареку? Нашел, кого слушать! Разве ты не знаешь, что Бенче – он из тех, про которых твой прадед реб Исаак, всем нам на долгие годы, говорил: если в голове нет – из задницы не добавишь. 4.В нашей семейной хронике есть событие, к которому оказались причастны все три старика. Случилось оно в девятьсот двадцать седьмом году, но рассказ о нем придется начать со времен еще более давних. Летом девятьсот второго года произошло нечто такое, что сильно переполошило обитателей тихого еврейского местечка. В домах, в синагогах, на базаре много дней не угасали разговоры. Виной всему был весьма редкий по тем временам поступок: молодая женщина, жена состоятельного коммерсанта, чуть ли не тайком покинула дом мужа и укатила за океан, в Америку, куда ее увез некий витебский присяжный поверенный. Мало того – оставила на руках у свекра и свекрови двухлетнего сына. Правда, справедливости ради надо заметить, что в этом пункте хор единодушного осуждения беспутной жены и легкомысленной матери сразу терял свою стройность: как не без оснований утверждали знающие люди, внука своего старики – дед Исаак и бабушка Эстер – просто не отдали. Остается добавить, что молодая женщина – моя бабка Роза, а ее двухлетний сын – мой будущий отец. О том, что у меня в Америке есть бабка, я случайно узнал из беседы двух наших соседок. Но всякий раз, стоило мне заговорить дома на эту сильно заинтересовавшую меня тему, как бабушка и дед тут же переводили разговор в безопасное русло. И тогда я понял, что никто не прояснит мне суть дела лучше, чем реб Берл Хейфец. Выслушав мой вопрос касательно истории с беглой бабкой Розой, он долго молчал, видимо, обдумывая ответ, что случалось с ним довольно редко – обычно старик находил нужные слова сразу. И ответ его был на этот раз немногословен: – Если тебя интересует, помню ли я твою бабушку Розу, отвечу так: ее трудно забыть – она была красавица. Еще лучше помню твоего дедушку Фридмана – большого коммерсанта. По своим торговым делам он постоянно находился в разъездах, хотя, я думаю, ему чаще надо было бы быть дома. Коммерция коммерцией, но молодая жена – это тебе тоже не фунт изюма. Бабушка Роза целыми днями сидела дома одна – вот ей и стало скучно. Она поскучала, поскучала – и уехала в Америку. Так обрисовал мне суть дела реб Берл. Через много лет отец дополнил историю, случившуюся в нашей семье на заре века, некоторыми любопытными подробностями. Когда я пересказал ему слова реб Берла, он рассмеялся и заметил: – А что ты думаешь – может быть, старик был не так уж далек от истины. Отец вспоминал, что в доме деда Исаака и бабушки Эстер прожил до четырнадцати лет. Но и покинув местечко, почти каждый год бывал там. Приезжал сначала в штатском, потом в форме курсанта летной школы. Списанный из авиации из-за внезапно обнаруженного дальтонизма (случилась врачебная ошибка, но оспаривать ее отец не стал), он был переведен в автомобильную воинскую часть, стал командиром взвода. В один из приездов в местечко отец познакомился с мамой. Свадьбу назначили через год. Назначить-то ее назначили, но когда жених, щеголяя белоснежной гимнастеркой, скрипучим командирским ремнем и черными бархатными петлицами с серебристой эмблемой – крылышками на колесах, появился в доме невесты, он первым делом решительно заявил: хупы не будет. Только гражданская регистрация – и точка. Со своей будущей женой отец, похоже, обо всем договорился заранее, потому что в разговоре с родителями их единственная дочь поддержала жениха. После долгих уговоров бабушка и дед согласились. Пошли они на это наверняка с тяжелым сердцем – но пошли: времена меняются... Прадеда реб Исаака уже не было в живых, дед Фридман обитал далеко на Украине, бабка Роза, о которой вообще не было ни слуху, ни духу, – в Америке. Но оставалась еще моя прабабушка Эстер. Отец не только нежно любил ее – она ведь заменила ему мать, – но и бесконечно уважал. Вот тут-то и случилось непредвиденное. Женщина глубоко верующая, всю жизнь свято соблюдающая религиозные традиции, прабабушка Эстер сказала: – Майнэ таерэ киндерлэх (дорогие мои детки), хупа должна быть. Потом можете поступать как хотите, но если не будет обряда венчания по нашему древнему обычаю – не будет вам ни моего благословения, ни меня самой на вашей свадьбе. Все доводы отца, что сейчас иные времена, что он военный человек, командир Красной Армии, и, следовательно, стоять под венчальным балдахином ему никак нельзя – все эти доводы разбивались о неизменно тихое, но столь же неизменно твердое "нет". Кто знает, как закончилась бы вся эта предсвадебная эпопея, не появись на сцене в нужный момент реб Берл, реб Нахман и реб Вэле. Они успокоили бабушку жениха и родителей невесты: не волнуйтесь, готовьте свадьбу – Б-г даст, все уладится. Слово свое старики сдержали. Под умелым руководством реб Берла и, разумеется, при самом непосредственном его участии, реб Нахман и реб Вэле за пару часов до хупы подпоили красного командира. Отец был человек непьющий, вишневка, настоенная на водке, подействовала на него достаточно сильно. Во всяком случае, с помощью этого, столь же древнего, сколь и простого способа, удалось-таки уговорить подвыпившего жениха переодеться в штатское и пойти в синагогу. Процедуру стояния под венчальным балдахином, как, впрочем, и застолье, последовавшее за свадебным обрядом, отец запомнил отрывочно, отдельными эпизодами: действие вишневой настойки оказалось весьма устойчивым. Самое яркое впечатление – это ощущение полной растерянности, когда, проснувшись утром следующего дня, он не обнаружил рядом молодую жену. Потребовалось еще некоторое время, прежде чем новоиспеченный муж сообразил: если жених на свадьбе пребывал во хмелю, то по старинному еврейскому обычаю первую брачную ночь он проводил в одиночестве. Отец вспоминал, что на следующий день все три веселых старика явились как ни в чем не бывало с поздравлениями. И реб Берл сказал ему: – Ты человек военный, и кто знает, куда забросит тебя судьба. Но даже если ты станешь большим начальником – никогда не забывай, что сначала ты был просто еврейский мальчик из местечка. 5.Большим начальником отец не стал. Беспартийный технарь, он дошел всего лишь до чина капитана – и это за восемнадцать лет службы в армии. И еще ровно столько же пробыл в ГУЛАГе. Слава Б-гу, остался жив. Как-то в разговоре с ним я невзначай вспомнил грустную песенку о бедном портняжке, услышанную когда-то от реб Берла Хейфеца: От азэй нэйт а шнайдер, Нэйт, ун нэйт, ун нэйт, ун нэйт, Он вдруг разволновался, что случалось с ним довольно редко. Стал вспоминать мальчишеские годы, бабушку Эстер и деда Исаака, историю женитьбы на маме. И еще многое другое, многое, что было потом. Впрочем, это уже другой рассказ, и к веселым старикам моего местечкового детства он отношения не имеет... ВЕЛВЕЛЭ– Ты спроси у мальчишек в местечке: почему они дразнят меня, почему смеются надо мной? – говорит Велвелэ и глаза его, большие, ярко-синие, увлажняются от подступающих слез. – Что плохого я им сделал? Я молчу – мне нечего ответить. – Они называют меня Велвелэ дер мешугенер (Велвел-дурачок), – продолжает он. – Разве это правильно? – Нет, – твердо отвечаю я, – неправильно. Такой разговор Велвелэ затевает всякий раз, когда я прихожу в поле, где он пасет общественное стадо. Бабушка часто посылает меня к нему с узелком – в нем краюха свежего домашнего хлеба, соль, пара луковиц и десяток вареных картофелин. Поев, Велвелэ аккуратно стряхивает крошки с колен, складывает тряпицу, целует ее и возвращает мне. Сидя на плоском, нагретом солнцем валуне, он поет песенку о веселом портняжке: А шнайдерл бин их, ай-ай-ай, (Я портняжка, ай-ай-ай,) Мне хорошо знакома эта песенка – в ней рассказывается о том, как портняжка сначала взялся перешить из пальто пиджак, из пиджака – жилетку, из жилетки – шапку, из шапки – пару рукавиц, после чего выбросил их в печку – и в доме стало чуть теплее. Но Велвелэ всегда поет только первый куплет – дальше он, похоже, не знает... Иногда по вечерам, встретив Велвелэ на окраине местечка, я помогаю ему гнать коров по домам. Правда, буренки и сами хорошо знают дорогу к своим воротам, но уж очень приятно шагать по пыльным улицам за стадом, лихо пощелкивая кнутом на виду у приятелей – этому искусству меня обучил Велвелэ. Сидящая на скамейке толстая мокрогубая Голда кричит: – Подумайте, люди, во что превратился мальчик из приличной семьи – он водит дружбу с сумасшедшим пастухом! И куда только смотрят твои бабушка и дедушка! У меня так и чешется язык ответить ей, но я вовремя вспоминаю любимое выражение бабушки: "С глупцом свяжешься – сам поглупеешь!» И я прохожу мимо, пощелкивая кнутом и делая вид, что слова толстой Голды ко мне вообще не относятся. * * *– Бабушка, – спрашиваю я, когда мы все втроем сидим за вечерним чаем, – почему Велвелэ называют сумасшедшим? Не все, но многие. Не ожидая, что ответит бабушка, дед Менахем-Мендл, на секунду оторвавшись от чтения газеты, коротко бросает: – По дурости. Вырастешь большой – сам увидишь, сколько среди евреев дураков. – А среди русских? – интересуюсь я. – И среди русских тоже хватает, – говорит дед. – Но уж если еврей дурак – то такой дурак, что его можно в музее показывать. И, завершив этими словами свою сентенцию, дед снова углубляется в газету. – Велвелэ, – говорит бабушка, – вовсе не сумасшедший. Он больной. Когда ему было лет десять-одиннадцать, он однажды попал в поле в страшную грозу, сильно перепугался, стал заговариваться, а потом замолчал. – Но со мной он разговаривает, – замечаю я. – Это потому, – объясняет бабушка, – что он тебя не боится и знает, что ты его не обидишь. * * *Я всегда удивлялся, почему, встретив деда, Велвелэ неизменно широко улыбался и долго тряс ему руку, словно благодарил за что-то. Оказывается, действительно благодарил, о чем я узнал много лет спустя от одного из моих земляков. А случилась эта история еще до моего рождения. ...Жил в нашем местечке мясник по имени Шабтай, а по прозвищу "дер фарштиникер" – «Вонючка». Так вот, и дед, и Велвелэ имели к этому благоухающему сортирному прозвищу самое непосредственное отношение, ибо благодаря им оно, собственно, и родилось. В те времена, о которых идет здесь речь, Велвелэ уже пас общественное стадо. Была в нем и корова Шабтая. Однажды она отбилась от стада и ее нигде не могли найти. Хозяин пригрозил пастуху, что прибьет его, если к утру буренка не вернется в стойло. Всю ночь Велвелэ бродил по окрестностям, пока перед самым рассветом не обнаружил корову на еврейском кладбище. С радостной улыбкой он пригнал корову на хозяйский двор, сообщил Шабтаю, где нашел ее – и тут разъяренный Шабтай набросился на пастуха с кулаками. Он кричал, что из-за кладбищенской травы молоко придется вылить, он бил Велвелэ по спине и по лицу. Пастух громко заплакал и упал ничком на землю, прикрывая голову руками. На шум сбежались во двор прохожие. Среди первых там оказался дед – он шел мимо шабтаева дома, направляясь к утренней субботней молитве в синагогу. Тут нелишне будет заметить, что дед мой, высокий и широкоплечий, обладал немалой физической силой – в семьдесят лет он свободно поднимал одной рукой двухпудовую гирю. Подойдя к Шабтаю сзади, он перехватил его поперек туловища, легко оторвал от земли и, пройдя десяток шагов, на глазах у всех аккуратно столкнул в выгребную яму, которую только накануне очистил от дерьма местечковый золотарь Зяма по прозвищу "Как". И тут, по свидетельству земляка, дед произнес свою знаменитую фразу, которую потом долго повторяло все местечко: – Всегда можно совершить богоугодное дело, даже если оно пахнет говном. А прозвище "Вонючка" с тех пор настолько плотно прилипло к Шабтаю, что я, например, так никогда и не узнал фамилию этого худощавого, редкобрового, вечно угрюмого человека. * * *Началась война. В местечко пришли немцы. На заборах появились приказы и распоряжения новых властей. Один из приказов касался только евреев, и было в нем всего два пункта. Первый: всем носить нарукавную повязку с шестиконечной звездой. За невыполнение – расстрел на месте. Второй: ни один еврей не имеет права покидать пределы местечка. За невыполнение – расстрел на месте. Коротко и ясно. Велвелэ на улице не появлялся: старики-родители следили за тем, чтобы он не выходил из дому. Но однажды не уследили. Полупьяный полицай остановил Велвелэ вопросом: – Почему шляешься по улице? Где повязка? И направил карабин в грудь Велвелэ. Не понимая, чего от него хотят, тот попытался отодвинуть в сторону дуло карабина. Полицай выругался и нажал на спусковой крючок... Так рассказывали очевидцы. Когда я передал их рассказ бабушке, она расплакалась, прижала меня к себе и сказала: – Бедный Велвелэ, теперь ему хорошо – он в раю. Ты всегда его жалел, и, думаю, перед Б-гом он будет твоим заступником. * * *Я – человек не религиозный, хотя отношусь к верующим людям со всем уважением. Но вот странная вещь: всякий раз, когда в моей памяти всплывают страшные часы расстрела, унесшего жизни бабушки, деда и почти всех моих земляков и то, каким чудом я избежал их участи – мне почему-то все чаще приходят на ум слова, сказанные когда-то бабушкой... С НЕЙ И О НЕЙСветлой памяти моей бабушки, 1. Сорэ-Двосе Дозорец.
Сорэ-Двосе Дозорец.
Реб Берл Хейфец, близкий приятель деда и один из лучших собеседников моего детства, однажды в разговоре со мной обронил странную фразу: – Родили тебя, конечно, папа с мамой, но живешь ты на этом свете только благодаря бабушке. Потом решив, очевидно, что сболтнул лишнего (с ним такое случалось), добавил: – А больше я пока ничего не скажу – с тебя и этого достаточно. Как бы не так! Я тут же прибег к испытанному способу: пошел со своим вопросом к бабушке. Но она, всегда относившаяся к реб Берлу очень доброжелательно и даже, бывало, дополнявшая его многочисленные рассказы, на этот раз вообще промолчала. Я повторил вопрос. Бабушка вдруг расплакалась, что случалось с ней очень редко, прижала меня к себе и сказала: – Выбрось это из головы. Реб Берл что-то путает... Путает или нет – кто их, взрослых, разберет. Одно я понял твердо: касаться этой темы больше не следует. И только через много лет, когда мне было примерно столько же, сколько отцу в год моего рождения, узнал я наконец, что скрывалось за словами реб Берла. Роды у мамы были очень тяжелые. Из Лиозно, небольшого нашего местечка, ее срочно увезли в Витебск; отец и бабушка поехали с ней. В родильном доме старик-акушер, выйдя из палаты, сказал дежурившему в коридоре отцу: – Ну-с, родитель, мой долг предупредить вас: состояние вашей супруги таково, что мы можем оказаться перед выбором – мать или ребенок. Поэтому решайте, да побыстрее. И услышал в ответ: – Спасайте мать. Так я оказался на попечении бабушки. Она меня и выходила: купанием в травных настоях, парным молоком. 2.Окружающие звали бабушку по-разному: евреи – Сорэ-Двосе, остальные по имени-отчеству – Софья Борисовна. А еще, как и у большинства обитателей местечка, у нее было прозвище: Сорэ ди Философке. Реб Берл Хейфец объяснил мне происхождение этого прозвища в своей обычной манере – предварять ответ на любой вопрос какой-нибудь замысловатой фразой: – Если тебя интересует, кто дал твоей бабушке это прозвище, можешь спрятать свой интерес в карман. Ты лучше спроси, почему ее так прозвали, – вот тут я имею кое-что сказать. Садись рядом, слушай и не перебивай. Если человек сначала скажет, потом подумает – это, как ты понимаешь, далеко не философ. Запомнил? Тогда слушай дальше. Даже если человек сначала все-таки подумает, а потом скажет – он, чтоб ты знал, тоже еще не философ. Так кто же тогда философ, спросишь ты. И я отвечу: твоя бабушка. Она не только думает, что говорит, – она еще и объяснит, почему думает так, а не иначе. Теперь понял? ...В местечке жила одинокая пожилая женщина – Лиза Михайловская. Ходила она по улицам в каких-то немыслимых одеждах, всегда сильно накрашенная. Мы, мальчишки, постоянно дразнили ее. Застав меня однажды за этим малопочтенным занятием, бабушка, как всегда, не стала читать мораль. Она произнесла только две фразы: – Умный человек сказал: "Не смейся над старостью того, чьей молодости ты не видел". Когда в следующий раз встретишь эту несчастную женщину – вспомни, что я тебе сейчас сказала. ...Зашел к нам мой сосед и одноклассник Николка. Он не был в школе, ему надо было переписать задание на завтра. Пока Николка занят этим делом, я спрашиваю о чем-то бабушку. Спрашиваю на идиш – ответ получаю по-русски. Повторяю вопрос – и снова бабушка отвечает мне по-русски. Николка переписал задание и ушел. Бабушка говорит: – Если тебе больше нравится разговаривать дома на идиш – пожалуйста. Но в присутствии постороннего человека ты должен говорить только на том языке, который ему понятен. – Почему? – спрашиваю я. – Подумай, – отвечает бабушка, – думать всегда полезно. Это ее любимое выражение. ...Никогда не слышал, чтоб она произнесла: гой, гоим. Может быть, она считала, что в этих словах есть некий оттенок недоброжелательности? Не знаю. О людях, повседневно окружавших нас, – белорусах, русских, латышах, – она говорила: ди кристн – христиане. ...Однажды я не помог заболевшему однокласснику приготовить уроки. Учительница пожаловалась бабушке. Бабушка сказала мне: – Возьми листок чистой бумаги и карандаш. Сейчас у тебя будет диктант. Потом она продиктовала: "Если я не за себя – кто же за меня? Но если я только за себя – зачем я?". Бабушка сказала: – Выучи наизусть и запомни на всю жизнь. Особенно вторую часть. Через много лет я обнаружил эти слова в одном из очерков Горького, и оказалось, что они принадлежат выдающемуся еврейскому мыслителю рабби Гилелю. Бабушка никогда не воспитывала во мне поступки – она воспитывала принципы. 3.В нашем доме, еще до моего появления на свет, несколько лет снимал комнату близорукий весельчак дядя Изя Иоффе. Прожил он в местечке довольно долго, здесь женился, но вскоре после этого уехал в Витебск. Однако, всякий раз, наезжая по делам службы в Лиозно, неизменно останавливался у нас. ...Яркий солнечный день, самый разгар лета. Мы сидим с дядей Изей на заднем крыльце и о чем-то беседуем. В дверях появляется бабушка. Осторожно спустившись по ступенькам, она идет в дальний угол двора, где на веревках, подпертых ухватами, сушится белье. Дядя Изя, дымя самокруткой, долго смотрит ей вслед сквозь толстые стекла очков в овальной металлической оправе. – Твоя бабушка – удивительная женщина, – задумчиво произносит он. – Стоит немного побыть с ней – и становится так хорошо, словно сам Г-сподь Б-г по сердцу босиком пробежал. Можешь мне поверить, я знаю, что говорю. Конечно же, я ему верю, потому что дяде Изе просто нельзя не верить, такой это человек. Но смысл сказанного до меня, увы, не доходит. Это верно, в местечке многие говорят, что бабушка – хороший человек, даже очень хороший. Но при чем здесь Г-сподь Б-г? Учительница Полина Денисовна и пионервожатая Хава в один голос утверждают, что Б-га вообще нет. Им я тоже не могу не верить. Но если это так – мог ли тот, кто вообще не существует, пробежать по сердцу дяди Изи, да еще и босиком? И почему от этой процедуры ему становится особенно хорошо? Нет, что-то здесь не так... Очевидно, недоумение, вызванное обилием свалившихся на меня вопросов, столь явно отразилось на моей физиономии, что дядя Изя не удерживается и произносит одно из любимых своих выражений: – Должен тебе заметить, друг мой Берл, что сейчас ты смотришь на меня точь-в-точь, как ребе на таблицу Менделеева. Он широк улыбается, но тут же гасит улыбку и уже серьезно добавляет: – Видишь ли, друг мой Берл, есть выражения, смысл которых нам дано постичь лишь тогда, когда мы становимся старше. А пока просто запомни: если человек произносит слова, похожие на те, что ты услышал от меня, значит, для него общение с другим человеком – праздник. Я запомнил. И эти слова, и обращенный ко мне взгляд веселого мудреца дяди Изи. 4.История, которую я собираюсь рассказать, произошла осенью последнего предвоенного года. Было мне в ту пору двенадцать лет. В спальне, в дальнем углу большого старинного шкафа, стояла у нас Тора, укрытая изрядно потертым голубым чехлом с Маген-Давидом, вышитым серебряными нитями. Мне очень хотелось развернуть ее, я был почему-то уверен, что увижу там нечто таинственное, может быть, даже волшебное, – но увы, свиток был довольно тяжел. К тому же, прояви я свое неуемное любопытство открыто – оно наверняка было бы неверно истолковано, и я вполне мог схлопотать от деда очередного леща. Дед давал его по своей методе: снизу вверх по касательной, и, что самое обидное, вроде и не больно – а летишь в противоположный конец комнаты. Но однажды я все-таки не удержался и залез в шкаф. Распахнув дверцы настежь, навстречу дневному свету, аккуратно снял чехол. Под ним оказалось пожухлое пергаментное полотнище желтоватого цвета, местами сморщенное и кое-где надорванное по краям. Слегка развернув свиток, я не обнаружил там ничего таинственного, только красиво выписанные еврейские буквы. Я натянул чехол на место, закрыл дверцы шкафа – и наверняка забыл бы об этом случае, если бы со мной не приключился тот памятный эпизод. Но сначала небольшое отступление. В свое время в моем родном Лиозно было несколько синагог. Самая большая из них, на Колышанской улице, – ее посещал и дед, – представляла собой массивное двухэтажное здание под черепичной крышей, сложенное из потемневших от времени деревянных брусьев. Реб Берл Хейфец утверждал, что синагоге больше ста лет и построена она на средства знаменитого хасидского цадика из Любавичей рабби Залмана Шнеерсона. Не знаю, как насчет средств, но, по авторитетному свидетельству Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, основатель любавичской династии рабби Залман Шнеерсон действительно довольно долго жил и проповедовал в Лиозно. В синагоге, как и положено, каждый прихожанин имел свое, раз и навсегда определенное место. Это был особой конструкции стул с откидным сиденьем; в глубине его, в специальном ящичке, хранились молитвенники. Просто и удобно: не надо всякий раз носить их из дому. Но в начале тридцатых годов большую синагогу, как, впрочем, и все остальные молитвенные дома, закрыли, мебель переломали и выбросили, а само помещение превратили в склад льна. И теперь, отправляясь к пятничной вечерней и субботней утренней молитве в один из частных домов, дед укладывал в черный бархатный мешочек не только талес, но и молитвенник-сидур. Он-то и стал моим пионерским оружием в предстоящей антирелигиозной борьбе, к которой нас решительно призывала пионервожатая Хава. Среди книг, стоявших на старенькой скрипучей этажерке, примостился невзрачный томик в безликом картонном переплете "под мрамор". Это был изданный еще до революции сборник сочинений Льва Толстого – "Хаджи-Мурат и другие рассказы". По виду книга сильно напоминала дедов сидур. Именно это обстоятельство и подсказало мне план действий. Улучив подходящий момент, я извлек из черного бархатного мешочка молитвенник, засунув туда вместо него книгу с повестью о мятежном кавказском абреке. Наступил вечер пятницы. С нетерпением ждал я возвращения деда с Б-гослужения, уже заранее представляя себе картину: он спрашивает, зачем я подменил сидур, а я в ответ произношу заранее приготовленную речь, подкрепленную стихами Маяковского и Демьяна Бедного. Но дед, вернувшись домой, сильно меня разочаровал – сильно в буквальном смысле слова, потому что никакого вопроса не последовало, а последовал традиционный увесистый лещ, после чего дед молча ушел в соседнюю комнату, громко хлопнув дверью. Вскоре оттуда вышла бабушка. По выражению ее лица я сразу понял, что мне предстоит невеселый разговор. Бабушка присела к столу, поставила меня перед собой и некоторое время молча рассматривала, словно видела впервые. Взгляд ее светло-карих, слегка навыкате, глаз, лишенный обычной доброжелательности, был холоден и отчужден. – Как ты мог? – спросила она. И еще раз повторила: – Как ты мог? Кто научил тебя этому? – Никто, – ответил я. – И вообще все давно знают, что никакого Б-га нет. А кто верит в него, тот отсталый человек, так говорит наша пионервожатая Хава. – Ах, вот оно что! – сказала бабушка. – Ну, тогда будь так добр и ответь мне, пожалуйста, от кого же мы с дедушкой отстали? От тебя? Или, может быть, от твоей умницы Хавы? Я промолчал. Бабушка встала, крепко взяла меня за руку, подвела к шкафу открыла его и, указывая на свиток в голубом чехле, спросила: – Ты знаешь, что это такое? – Конечно, знаю, – ответил я. – Это Тора, большая еврейская книга, свернутая в два рулона. Наша пионервожатая про нее рассказывала. А еще она говорила, что мы, пионеры, должны бороться с религией, как нас призывают великие советские поэты Владимир Маяковский и Демьян Бедный. Хочешь, я почитаю тебе их стихи? – В другой раз почитаешь, – сказала бабушка. – И не великого поэта Демьяна Бедного, а просто Александра Сергеевича Пушкина. Договорились? А теперь послушай, что я тебе расскажу. Услышанное в тот осенний вечер от бабушки запало в мою память на всю жизнь. Раньше я был уверен, что самая главная фамильная реликвия, хранящаяся в нашей семье, – георгиевская медаль "За храбрость". Принадлежала она моему прадеду по материнской линии реб Велвлу Дозорцу. В составе военно-санитарной команды он участвовал в обороне Севастополя: выносил раненых из-под огня. Медаль ему вручил перед строем сам главный хирург русской армии Николай Иванович Пирогов, чем реб Велвл особенно гордился. А тут я узнал, что наша главная семейная реликвия – вовсе не медаль прадеда, а этот самый свиток Торы. По словам бабушки, надпись, сделанная на внутренней поверхности чехла, свидетельствует, что Тора была переписана по заказу богатой сефардской семьи, жившей в одном из испанских городов более пятисот лет назад. Указывалась и фамилия первых владельцев свитка, но я ее не запомнил. Когда началось массовое изгнание евреев из Испании, и святейшая инквизиция отправляла на костер тех, кто, приняв христианство, продолжал тайно исповедовать веру отцов – эту Тору удалось спасти. Подвергая себя смертельному риску, люди передавали ее из рук в руки, из дома в дом, из города в город – и, в конце концов, она оказалась за пределами Испании. Запись на изнанке чехла свидетельствовала, что в разные годы и столетия свиток побывал в разных странах, пока не попал наконец в Белоруссию, в еврейское местечко под Витебском. Со слов бабушки, реб Велвл получил Тору в наследство от отца. Когда в Лиозно построили большую синагогу, свиток торжественно внесли туда и поместили в арн-койдеш – ковчег Завета. Конечно, сказала бабушка, теперь настали другие времена. Можно превратить синагогу в склад. Можно разобрать арн-койдеш на дрова. Но никакая сила не заставит истинно верующего человека отвернуться от Б-га. И еще бабушка сказала: она надеется, что ее внук когда-нибудь поймет это. ...Свиток Торы погиб во время артиллерийского обстрела, от которого сгорели до тла и наш дом, и еще три четверти местечка. Утверждают, что обстрел вели отступающие части Красной Армии. И случилось это на двадцать пятый день войны. 5.Немцы пришли в июле сорок первого. Очень скоро на улицах, кроме вражеских солдат, появились и полицаи из местных – в штатском, с винтовками и белыми нарукавными повязками. Всех евреев согнали в несколько домов. Выйти за пределы местечка и попасться им на глаза означало верную смерть: полицаи стреляли без предупреждения.  Борис Черняков.
Борис Черняков.
Даже мне, мальчишке, на которого никто не обращал внимания, добывать еду становилось все труднее. Но лето и осень мы продержались. Я собирал грибы, ягоды, облазил все заброшенные огороды вокруг пепелищ, добывая овощи и картошку. Однажды мне сказочно повезло: в рощице за Адаменским садом, в полузасыпанном, заросшем крапивой и лопухами, блиндаже, я нашел два солдатских вещмешка, набитых под завязку пачками подмоченного гречневого концентрата. Но с приходом первых зимних дней начался настоящий голод. Оставалось одно – идти с сумой по деревням. Мне было тринадцать лет, с самого раннего детства я усвоил слова бабушки: "Старайся ни у кого ничего не просить, обходись в жизни собственными силами. Никому не будь должен – пусть лучше тебе будут должны". Хорошие слова – но даже моя мудрая бабушка не могла предвидеть того, что случилось с нами в то горькое и страшное время. У бабушки и особенно у деда начали опухать ноги, отекли лица – и я пошел по миру. Уходил и возвращался затемно. Окольными дорогами, а чаще по бездорожью добирался до дальних деревень. Многое забылось с тех пор, но до конца жизни не выветрится из памяти саднящее чувство горечи и стыда, охватившее все мое существо, когда впервые, тихо и неуверенно, я постучал в двери деревенской хаты... К счастью, просить почти не приходилось. Я молча останавливался на пороге, и хозяйка так же молча протягивала мне кусок хлеба или несколько картофелин. Случалось, не давали ничего – и тогда я слышал неизменное: – Ты уж прости, хлопчик, самим есть нечего... Когда я рассказал бабушке о своем первом походе с сумой, она расплакалась: – Хороших людей на свете всегда больше. Так было, так будет. ...В то пасмурное февральское утро сорок второго я, как всегда, еще до рассвета ушел из дома в поисках еды. Не помню почему, но возвращался рано, часов в двенадцать. Навстречу – сын наших соседей. Увидев меня, он еще издали замахал руками, закричал: – Не ходи до хаты, не ходи до хаты! Там полицаи всех ваших забирают! Вон – гляди сам! Дом, где мы жили, стоял в низине. Сверху, с пригорка, я видел, как всех его обитателей полицаи заталкивают в кузов крытого грузовика. Я спрятался в заброшенном, стоявшем на отшибе сарае. Потом выбрался наружу. До сих пор не могу объяснить, почему не убежал из местечка, а пошел на звук первых автоматных очередей. Было это совсем рядом, в Адаменском саду. Я лежал в канаве, скрытой густым кустарником, в нескольких десятках метров от рва, где по команде немцев полицаи расстреливали моих земляков. Среди кричавших, метавшихся в смертном страхе людей я увидел бабушку. По ее движениям понял: она ищет в толпе меня. Потом подошла к деду, что-то сказала ему. Они обнялись... Дальше провал – очнулся уже в темноте... Никто никогда не узнает, что вспомнили, о чем подумали дорогие мои старики за мгновенье до своей гибели. Но одно я знаю твердо: если что-то и придало им силы перед лицом неминуемой смерти, у врат небытия, – это сознание того, что в толпе обреченных они не нашли меня. И сегодня, через пятьдесят с лишним лет, я слышу голос бабушки: – Нэм зих нит ибер, Береле! Лэйф бэсэр афн гас мит лэбэдике фисэлэх! Лэйф! | |||
|
|
Местечки Витебской областиВитебск• Альбрехтово• Бабиновичи• Бабыничи• Баево• Барань• Бегомль• Бешенковичи• Богушевск• Борковичи• Боровуха• Бочейково• Браслав• Бычиха• Верхнедвинск• Ветрино• Видзы• Волколата• Волынцы• Вороничи• Воропаево• Глубокое• Гомель• Городок• Дисна• Добромысли• Докшицы• Дрисвяты• Друя• Дубровно• Дуниловичи• Езерище• Жары• Зябки• Камаи• Камень• Колышки• Копысь• Коханово• Краснолуки• Краснополье• Кубличи• Лепель• Лиозно• Лужки• Лукомль• Лынтупы• Любавичи• Ляды• Миоры• Оболь• Обольцы• Орша• Освея• Осинторф• Островно• Парафьяново• Плисса• Подсвилье• Полоцк• Прозороки• Росица• Россоны• Сенно• Сиротино• Славени• Славное• Слобода• Смольяны• Сокорово• Сураж• Толочин• Труды• Улла• Ушачи• Цураки• Чашники• Черея• Шарковщина• Шумилино• Юховичи• Яновичи |
|
|
Главная |
Новые публикации |
Контакты |
Фотоальбом |
Карта сайта |
Витебская область |
Могилевская область |
Минская область |
Гомельская область |